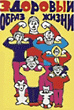ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ+ №8 (257), август 2024 г.
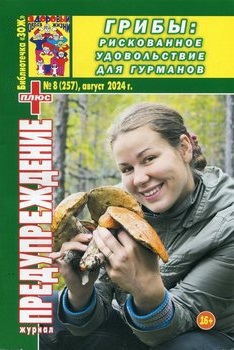
Консилиум
КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ РЯДОМ
Онкологический диагноз
Многие, узнав о диагнозе «рак», отказываются от лечения средствами официальной медицины и ищут помощи в нетрадиционных методах. А в результате упускают драгоценное время. Мы попросили трех специалистов — врача-онколога, патронажную медсестру и психолога — поделиться своим опытом убеждения онкологических пациентов в том, что им необходима стандартная медицинская помощь.
Время на отрицание
Е.И. Бабкина, психолог:
В первые минуты, когда человеку говорят: «У вас рак», у него включается естественный защитный механизм — отрицание. То есть человек слышит диагноз и думает: «Нет, это не про меня. Наверное, перепутали анализы». Отрицание — это нормальная психологическая реакция защиты, которая формируется еще в детстве. Шок и отрицание — это небольшой перерыв, чтобы психика могла приспособиться и принять ситуацию. Пока человек находится в шоке, его организм восстанавливает энергетический запас.
Если мы вспомним про стадии проживания горя, то в психологии принято выделять пять этапов: отрицание, агрессия, торг, депрессия, принятие. И на этапе отрицания внешне все выглядит так, будто пациент не понял, что ему объяснил врач, или не доверяет врачу. Бывают даже случаи, когда врач поставил диагноз, а пациент решил: «Просто я ей не понравился, и она мне вот так специально сказала». В норме отрицание длится максимум несколько суток. Но если человек уходит в отрицание на более длительный период, с этим уже надо что-то делать. На протяженность отрицания могут влиять и отношения с близкими: если человек пришел домой, рассказал, какой у него диагноз, и родные его ободрили, поддержали, эта стадия пройдет быстро. Если же человек не хочет говорить близким о своем диагнозе, в отрицании он может «застрять».
На решение пациента влияет и его способность преодолевать трудности. Если пациент обычно трудностей пугается, то и о неприятном диагнозе ему проще «забыть»: таким образом он «решает» проблему тем, что ее не замечает. Тогда без помощи близких из отрицания не выбраться до тех пор, пока ситуация не станет критической — например, дело не дойдет до вызова «скорой помощи». И в этом случае вместо проблемы «признавать или не признавать диагноз» встает другая — человека уже нужно срочно спасать.
Однажды я работала с пациенткой, которая ушла в отрицание на два года, потому что не поверила врачу: врач назначил ей вначале химиотерапию, а не операцию, и та решила, что ей «отказали в лечении». В итоге два года она «лечилась» от рака какими-то примочками, о которых прочла в интернете. Спустя время на ситуацию обратили внимание родственники — дочь привела женщину к другому врачу... В результате упущенного времени пришлось экстренно удалять разросшуюся опухоль...
«Не буду лечиться» означает «Помогите мне!»
T.C. Дубровина, патронажная медсестра:
Надо понимать, что по сути отказ от лечения — это скрытый суицид. Человек начинает говорить что-то вроде: «Зачем так жить? Лучше не жить вообще, чем жить так!». И вот тут надо понять, что психика — вещь противоречивая. Больной может рассуждать о смерти, но это значит, что у него включилась именно та часть сознания, которая отвечает за желание жить. Это желание выражается скрытой мольбой к близким: «Помогите мне!». Поэтому, даже если в близких в это время летят слова: «Не трогайте меня, отстаньте!», на самом деле эти фразы — крик о помощи. Человек как бы проверяет: нужен ли он родным, готовы ли они за него бороться. И здесь — совет близким: говорите человеку, как он вам дорог и нужен, даже если он в ответ будет огрызаться и кричать. Механизм такого поведения — бессознательный. Конечно, человек специально не сидит и не проверяет, насколько он для вас ценен. У него в момент горя реально падает самооценка, поэтому родственники должны быть готовы к обидам, агрессии, спорам. Но эта агрессия направлена не на них, это процесс принятия болезни.
Очень важную роль играет также ощущение пациента, что он больше не контролирует собственную жизнь. Допустим, у человека были какие-то планы — выйти на пенсию, увидеть внуков. И вот, услышав диагноз, он решает, что этого никогда теперь не будет. В такой момент человеческому сознанию важно знать, что есть какая-то опора, за которую оно может зацепиться. Увы, чаще всего в качестве такой опоры выступают обещания целителей, которые дают на лечение «стопроцентную гарантию».
Врач сказал: «У вас рак»
Е.Ю. Аунман, врач-онколог:
Такой опорой для сознания российского пациента не могут стать слова врача, хотя бы потому, что у онколога по нормам на прием больного отведены пресловутые 12–15 минут, и у доктора просто нет времени поговорить.
За рубежом рядом с пациентом, которому сообщили онкологический диагноз, сидит специальный соцработник. Потом он разговаривает и с ним, и с родственниками, долго и подробно объясняет им все про лечение. И одна из задач такого специалиста — дать человеку выговориться о своих чувствах. А в России врач-онколог только успевает сообщить: «У вас — рак». А потом пациенты говорят: «Было ощущение, что меня огрели палкой, и я уперся головой в бетонную стену. Причем голову я расшиб, а стена осталась на месте».
В итоге человек охотно поворачивает свой взгляд именно к нетрадиционной медицине, ко всяким шарлатанам, где ему тоже предлагают «лечение». Пациент в целителе видит волшебника из сказки, который с помощью волшебной таблетки сможет его вылечить: так у пациента включается магическое сознание. А целитель всячески поддерживает это убеждение, заявляя: «Мы вылечим вас с гарантией», «Мы решим ваши проблемы за несколько встреч».
Мифологизированная болезнь
Т.С. Дубровина, патронажная медсестра:
Я периодически общаюсь с больными, которые только узнали о своем диагнозе. И заметила, что в первый момент после сообщения рак выглядит для пациента не как болезнь, от которой можно вылечиться, а как смерть. Обычные болезни такого ощущения не вызывают, потому что они не так сильно мифологизированы. Например, пневмония как смерть не воспринимается, потому что люди знают: попил таблетки и выздоровел. А рак поначалу считают именно безнадежной ситуацией.
К такому восприятию приводят, например, и бесконечные сборы денег в СМИ. Человек, которому поставили диагноз, вспоминает такие сюжеты по телевидению и думает: «Все! У меня нет таких денег, нет сил и связей, чтобы собирать деньги через журналистов». Поэтому я считаю: очень важно в обществе сформировать массовое спокойное отношение к онкологическому диагнозу заранее. Например, я работаю в стационаре и вижу: иногда молодые пациенты воспринимают свой диагноз гораздо более спокойно, чем их старшие родственники. Человек двадцати пяти лет говорит: «Я понимаю, что уже лежу в стационаре, меня лечат, и все будет нормально, а вот моя бабушка рыдает». К сожалению, люди старшего возраста живут с теми страхами и с тем восприятием рака, которые массово возникли сорок лет назад, когда пациент чаще всего попадал на операционный стол уже в запущенной четвертой стадии. А ведь с тех пор диагностика и лечение сдвинулись кардинально.
На что «целители» ловят больных онкологией
Е.Ю. Аунман, врач-онколог:
Чаще всего отказ от традиционного лечения происходит в середине химиотерапии. Начав лечение, через курс–два больные переходят к нетрадиционной медицине. Свой выбор они мотивируют тем, что очень плохо переносят «химию», а «специалисты», которые предлагали им лечение нетрадиционными методами, убеждают их в том, что «химия» убивает не только опухоль, но и весь организм. И пациенты уходят.
Поскольку делать химиотерапию они уже начали, какое-то время действие ее продолжается, и опухоль сокращается. Однако больные приписывают это влиянию нетрадиционной медицины. Через некоторое время, когда действие химиотерапии заканчивается, опухоль начинает прогрессировать. В результате месяцы спустя пациенты возвращаются к врачам, часто в более запущенном состоянии, чем уходили. Опухоль становится агрессивнее, иногда появляются метастазы.
Если человек уже начинал лечиться традиционными методами, то знает, как это тяжело. Даже если не начинал, то видел своих соседей по палате, которых тошнило, у которых выпадали волосы. А знахарь ему говорит: «У моих препаратов побочных эффектов нет». Или может привести в пример какого-то известного человека: «На самом деле он давно ко мне обратился, пьет мои препараты, и вот, посмотри — живет». Глядя на это, человек говорит: «Я не хочу химиотерапию».
А когда пациент обнаруживает, что нетрадиционное лечение не помогло, «целители» всегда находят аргументы. Например, если человек когда-то начинал химиотерапию, а потом пришел к «целителю», они могут заявить: «Мой метод не помог именно потому, что вы делали «химию». Я лично знаю такие случаи.
Серьезный врач никогда не скажет: «Я гарантирую выздоровление». Про многие официально признанные методы лечения можно сказать, что они «доказали свою эффективность». Но бывают случаи редкой опухоли или быстро прогрессирующей, и в этом случае врач говорит: «Эта схема лечения должна помочь, мы сделаем все, что сможем». Но стопроцентную гарантию врач дать не может. А знахари легко дают любые обещания.
Бывает так, что в серьезных клиниках лечение немного откладывается, ведь нужно провести дополнительные обследования или же больного не сразу удается госпитализировать. Промедления в одну–две недели нормальны и одинаковы при лечении в России и в заграничных медицинских учреждениях, так что ни в одной серьезной клинике вас не начнут лечить прямо в день обращения. Но люди, которым поставлен диагноз, хотят начать лечиться как можно быстрее. А знахарю обследования делать не надо. Он, конечно, может поговорить и подробно расспросить пациента, но готов начать лечение прямо сейчас.
Однако, несмотря на всю аргументацию, развернуть человека, который решил попробовать лечиться нетрадиционно, практически невозможно. Мы не можем переубеждать и тащить его за руки. Задача врача — рассказать, почему рак лечат именно с помощью химиотерапии, лучевой терапии, операции, а не терапии бабочками. И когда пациенты и их родственники интересуются, грамотные врачи стараются дать им как можно больше информации: какие виды лечения бывают, какое лечение помогает, а какое — нет, как делают лекарства, почему к этому больному применяют именно такие виды лечения. Но решение лечиться всегда остается за пациентом.
Как правильно помочь человеку
Е.И. Бабкина, психолог:
Родственникам надо говорить человеку, насколько они его любят, насколько он для них ценен. И при этом относиться с пониманием к агрессии, которую он, возможно, будет в ответ демонстрировать. Это не его отношение к конкретному родственнику, это его отношение к болезни. Нужно принимать все эмоции человека. Но при этом нельзя говорить «Ты пойдешь лечиться, потому что я так решил». Нужно, чтобы решение лечиться заболевший принял сам.
Возможна, например, такая ситуация: заболел мужчина, глава семьи, который всю жизнь семью обеспечивал. И теперь ощущает, что он потерял свой статус, при этом жена для него — совершенно не авторитет в серьезных вопросах. Тогда, возможно, жене стоит найти какого-то его знакомого, мужчину, который был бы для него авторитетом в плане действия и поговорил бы с ним о необходимости лечиться. Жена в этом смысле в качестве собеседника, наверное, не очень справится, потому что он ее всю жизнь любил и о ней заботился, и одномоментно поменяться ролями они не смогут. Если же человек одинокий, помочь ему могут друзья, знакомые, соседи.
Есть правило: мы не можем помочь человеку, который не просит о помощи, и мы не можем вылечить человека, который не считает себя больным. Человек должен хотя бы минимально осознать свои проблемы и захотеть их решить. А мотивировать человека, взять его за руку и отвести к врачу могут близкие. Это способ показать: «Нам не все равно, что с тобой происходит, мы рядом и всегда будем рядом, в любой ситуации».
На прием к онкологу можно пойти с родственником
Е.Ю. Аунман, врач-онколог:
Мы даже рекомендуем пациентам взять с собой родственника или знакомого, чтобы в момент сообщения диагноза они не были в одиночестве. Технически у нас это выглядит так: для подтверждения диагноза у человека берут анализ на биопсию, и потом он две недели ждет результатов. И если диагноз подтвердится, родственник сможет более трезво и спокойно воспринять то, что скажет врач, и поддержать больного. Смысл такой поддержки состоит в том, чтобы перенаправить человека из его внутреннего мира на внешние ресурсы — к врачам, родственникам. Сначала он обращается к этому кругу, и только потом, когда происходит принятие болезни и ситуации, больной обращается к себе и говорит родным: «Теперь я сам!». Но пока человек слаб, пока он лежит дома, переживая «химию» и ее побочные эффекты, кто-то должен быть рядом, объяснять: «Когда лечение закончится, ты встанешь, восстановишься, и все будет по-другому. Но сейчас, пока ты болеешь, просить помощи не стыдно, а просто необходимо».